Ирина Канурская: Роль одежды в возрождении традиционных основ русской жизни (по трудам духовных мыслителей и ученых) (03.02.2015)

Доклад на XXIII Международных рождественских чтениях.
Новомученики и исповедники Российские, пострадавшие за веру в ХХ веке, оставили богатейшее духовное наследие, которое содержит в том числе и ответы на вопросы, являющиеся весьма актуальными для возрождения духовно-нравственных основ жизни нашего народа сегодня.
Один из таких вопросов связан с ролью одежды, которая одновременно отражает состояние и влияет на формирование нравственных качеств личности человека. Все мы, например, видим, какие разногласия возникают при обсуждении формы для школьников. За этим стоят глубокие мировоззренческие противоречия, основу которых нам помогают осмыслить святоотеческие творения, а также труды таких русских мыслителей, каким являлся Н.Я. Данилевский.
Опираясь на эти труды, я попытаюсь кратко изложить суть вопроса о роли одежды в нашей жизни. Это важно, так как в системе задач, которые стоят перед нашим народом в деле духовно-нравственного возрождения, одежда играет немаловажную роль.
Митрополит Филарет Московский (+1867) в одной из своих проповедей говорил:
«Что такое одежда? В порядке естественном – средство для защищения человеческого тела от разрушительного действия стихий; в порядке нравственном – защита стыдливости; в порядке гражданском – искусственное прикрытие членов тела, приспособленное к отправлению того или иного звания общественного, и вместе отличительный знак званий и степеней, в них установленный… Из этих понятий тотчас можно усмотреть, что попечениями об одежде должны управлять необходимость, скромность, постоянство».[1]
После грехопадения человек впервые сделал для себя одежду: «…и сшили себе смоковные листья и сделали себе опоясания».[2] Такова по свидетельству Библии была первая одежда человечества. И это стоит в полном согласии с универсальной традицией древности и с историей человеческой культуры. Ощущение чувственности и греха требовало прикрытия наготы, служившей ранее символом невинности.
Еще в глубокой древности было замечено, что «со снятием одежд жена освобождается и от стыда».[3] Поэтому св. ап. Павел требует от женщин приличного одеяния, не нарушающего их стыдливости и целомудрия (1 Тим. 2; 9). По разъяснению толковников приличным является то платье, которое «со всех сторон прикрывало бы их благопристойно».[4] Среди подвижников считается, что «…поднятая выше колен одежда уже обличает бесстыдство души».[5]
На этом основании можно заключить, что в какой степени снимается одежда, в такой же степени отлагается и стыдливость.
Важные суждения о народных формах быта, где одежда занимает существенное место, мы находим у выдающегося русского ученого Н. Я. Данилевского в его труде «Россия и Европа». Он показал, что любой народ созидателен лишь тогда, когда устраивает свой быт в соответствии с особенностями собственного культурно–исторического типа, а основной чертой славянского культурно-исторического типа является религиозность.
Эту мысль подтверждает сщмч Андроник (Никольский). На пороге революционного краха Российской Империи, он писал: «Для русского народа характерно было религиозное устроение. <> Настоящую религиозность, охватывающую всю душу и жизненный быт человека, можно находить только у нашего народа, … тогда как в странах конституционных и республиканских вы хотя и найдёте благочестие и религиозность, но они давно уже занимают лишь определённый уголок и в жизни, и в душе человека и народной». [6]
Характеризуя русскую одежду Н.Я. Данилевский отмечает: «Русское народное одеяние достаточно прочно и величественно». В то время, как европейские костюмы, пишет ученый, «совершенно уродливы, как наши сюртуки, фраки,… кафтаны времен Людовика XVI и т.д.».
Н.Я. Данилевский показал, что искажение на иностранный лад всех форм быта: одежды, устройства домов, домашней утвари, образа жизни, кажутся для многих совершенно несущественными и безразличными. Но при тесной связи внутреннего и внешнего это неверно.
Характер одежды и всей бытовой обстановки оказывает важное влияние на объединение подчинённых народностей с народностью государственной.
Он обращает особое внимание на тот факт, что в состав русского государства всегда входили разные народности. Они в массе сохраняют свои национальные черты, но любые личности, поднявшись на простор общей государственной жизни всегда стремятся перенять обстановку и уклад жизни господствующих классов. Однако в это же время у этих личностей зарождается сожаление о прежней политической самостоятельности их нации, или мечта о её возрождении. Но это последнее не имеет внутренней основы, и при достаточной силе первого оно исчезает. «В старину без всякого насилия разные татарские мурзы, черкесские князья, немецкие выходцы легко обращались в русских дворян».[7]
Об этом упоминает и сщмч Андроник (Никольский): « Никакой искусственной обрусительной политики не преследовалось нами прежде, а между тем инородцы сами постепенно и охотно делались русскими и по вере, и по духу, и по быту».[8] ;« Благочестие настолько было сильно и пленительно, что инородцы страны свободно переходили в Христову веру от Магомета и идолов. Мало того, мы не стремились сделать их русскими, а они сами легко такими делались во всём».[9] Но после изменения жизненной обстановки дворянства на европейский лад, достаточно было лишь принять на себя общеевропейский облик. «А это усиливает отчуждённость, которая более–менее свойственна инородцу, из-за этого-то и порождаются то молодая Грузия, то молодая Армения, а, может быть, народится молодая Мордва, молодая Чувашия, молодая Якутия».[10]
Н.Я. Данилевский приходит к выводу, что изменение быта и всего, что связано с этим понятием, ведёт к утрате самобытности в искусстве, т.е. народ не может творить, а значит развиваться. Сшмч Андроник предостерегает: « Как яда смертоносного, следует оберегаться всего, что предлагается вместо нашего родного и бытового достояния».[11]
В результате Петровских реформ и изменения народного быта на европейский лад пострадали все виды народного искусства: архитектура, ваяние, музыка, живопись.
Разрушительное воздействие претерпела и одежда.
Важно понимать, что в традиционной культуре одежда это не просто защита тела от внешних неблагоприятных воздействий. Она была включена в весь бытовой строй жизни человека и отражала половозрастное, социальное, этническое, профессиональное положение человека.
Известно, что народная одежда, включённая в содержание крестьянских праздников, обрядов и повседневности, как правило, представляется явлением, в котором сосредоточивались мировоззрение и дух народа.
«Детство, юность, зрелость, переход из одной возрастной категории в другую, способы включения человека в систему родственных связей – всё это, как в предыдущих столетиях, так и в начале XX-го века, хотя и в иной форме, продолжало находить отражение в народной одежде».[12]
Производство одежды в семье было весьма трудоёмким и занимало много времени и сил, но и носилась такая одежда длительное время. (Лён надо было вырастить, переработать в пряжу, наткать полотна, отбелить его на солнце, обработав щёлоком, и только потом шить рубахи, порты, сарафаны).
Особое место занимало украшение одежды, и это, прежде всего, вышивка. По мнению ученых, вышивка содержала в себе различные смыслы, её можно было читать!
Исследователь Н.С. Преображенский описал такой обычай второй половины XIX столетия у жителей округи села Никольское (современный Усть–Кубинский район) Вологодской земли: «На крещенье из ближних и дальних деревень приходили и приезжали девушки–невесты, привозя с собой лучшие наряды. А был их наряд почти весь сделан своими руками. Под низ надевала девушка рубашку с двумя красными полосами, на неё ещё 4–5 рубашек, вышитых самым причудливым образом <…> от низу до груди. На верхнюю рубашку – сарафан, на него 3 или 4 нарядных передника, тоже вышитых, как и рубашки. Поверх всего – овчинную шубу, опушённую мерлушечьим мехом и крытую синим сукном.
После обеда начинался самый ответственный момент смотрин. Девушки рядами становились у церковной ограды. Несколько парней выбирали пожилую бабу и под её предводительством направлялись к разряженным девицам, которые стояли, боясь пошевелиться. Баба подходила к одной из девушек, раздвигала полы шубки и показывала её нарядные передники. Потом поднимала подол сарафана, одну за другой все узорчатые рубахи, до той самой, на подоле которой были 2 полосы. И всё это время поясняла значение узоров».[13]
Наконец, одежда физиологична. Она не стесняет движений, собранные сзади складки у круглого сарафана утяжеляют спинку, и плечи сами распрямляются. Я видела это на детях. Кроме того, русская женщина, будучи часто беременна, была всегда в свободной одежде, защищающей её и ребёнка от неблагоприятных воздействий.
Народная одежда, даже домашняя, была всегда яркая и красивая. Я предполагаю, что это было отражением внутреннего состояния человека, его радостного восприятия мира. И была, думаю, обратная связь: такая одежда, взывая к эстетическому чувству, создавала внутреннюю радость.
Так как в России существовала разделённость между народом и высшими богатыми слоями общества, русская народная одежда не проникала в жизнь высшего общества. А если бы это произошло, то одежда могла бы изменяться в сторону большего изящества и красоты, используя более тонкие качественные ткани, приёмы шитья и т.д.
Женщина в таком одеянии чувствует себя иначе, чем в современной одежде. Происходит совпадение внешнего и глубинного внутреннего психического строя женской души, возникает гармония, которая благоприятно сказывается и на нравственном, и на физическом состоянии женщины.
Но традиционная культура – как образ жизни, система ценностей, вера, устные традиции, нормы и правила общения и поведения, обычаи, обряды, празднества, претерпела новое разрушительное воздействие революционных преобразований XX века.
«Обращение человека духовного, человека русской народной культуры в человека «цивилизованного» (европейского типа) произошло не само по себе. Историческая память и народная культура в XX веке отбивались с неслыханной до того жестокостью – осуществлялось по сути невиданное и не видимое многими всестороннее уничтожение культур и народов»[14]. Авторы&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp; книги «Женская сряда» приводят ряд свидетельств борьбы с народными обрядами, праздниками и одеждой. «Сегодня жители рассказывают, как с 1930 по 1980 гг. власть запрещала и разгоняла девичьи посиделки и маслену, святки, народные свадьбы и крестины, запрещала носить понёвы, шушуны и шушпаны (виды одежды).В 30–х годах комсомольцы села Ушинка в один из праздников к концу обедни оцепили церковь. И, когда бабы стали выходить из церкви в своих красивейших срядах, то они силой снимали нагрудники, цупруны, понёвы и сбрасывали их в общий ворох. Содрав со всех баб одежды облили их керосином и сожгли. (ПЗ (У), 1998). Подобное происходило во многих краях России».[15] Известны факты преследования женщин, выходивших на работу в сарафанах, им просто не выписывали трудодни.
Научные изыскания по русской народной культуре были свёрнуты и запрещены, а многие музейные вещи были уничтожены или утеряны. Сами исследователи народного быта высланы или отстранены от изучения данной тематики, некоторые были расстреляны. Произошёл разгром школы русского народоведения.[16]
В современных условиях, когда духовно–нравственные ценностные ориентиры деформированы, введение в повседневную жизнь через здоровую рекламу и моду, одежды, выполненной на основе народных традиций, было бы актуально и полезно.
Подводя итоги, можем сказать, что история подтвердила справедливость и глубину влияния быта на самосознание народа.
Русский народ всегда отличался своей духовностью и это определяло строй его жизни. Очень хорошо об этом сказал сщмч. Андроник (Никольский):
«Наша народная культура есть исключительно культура духа. Во всём укладе жизни, в обычаях, в душевных исканиях. В народном и даже литературном творчестве непременно есть искание нравственной ценности жизни, отношение к ней именно с этой стороны. Для неё (культуры) и самая жизнь не имеет ценности без ценностей духа, без ценностей нравственных. Только с нравственной стороны расценивается и самая жизнь человека со всеми его поступками и намерениями. Не будет этих нравственных оснований – не будет смысла и в самых высоких и полезных делах человека. Поэтому русский человек, даже испытавший на себе воздействие и нерусской культуры, всё-таки смотрит на жизнь как на приложение к делу жизни нравственных запросов духа. В самой жизни поэтому ищет подвига, как несомненного оправдания и для существования человека на земле».[17]
Список Литературы:
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в Синодальном переводе с комментариями и приложениями. Российское Библейское общество. М.: 2004.
Толковая Библия или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. Книга 1. Бытие–Притчи Соломона. Петербург. 1904–1907.
Св. Иоанн Златоуст. Т. 11. Ч. 2.
Климент Александрийский. Педагог. Кн. 2. Гл. 10.
Ефрем Сирин, преподобный. 77. Поучение падшему брату. //Творения. Часть 3. Сергиев Посад, 1897. Репринт.
Филарет, митрополит Московский и Коломенский, святитель. 13. Слово в неделю третью по Пятидесятнице. //Слова и речи. Т. 1. М., 1873. Репринт.
Священномученик Андроник (Никольский; 1870–1918), архиепископ Пермский. Творения. Книга I. Статьи и заметки. Тверь: Булат, 2004.
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991.
Домострой. Юности честное зерцало. М.: Даръ, 2006. – 320 с.
Калашникова Н.М. Семиотические функции народного костюма//Музей Традиции. Этничность. XX-XXI вв. Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 100–летию Рос. Этн. музея. С.-Петебург; Кишинёв, 2002.
Преображенский Н.С. Баня, игрище, слушанье и шестое января // Современник. 1864. № 10.
Кутенков П.И. Великорусская женская сряда. СПб.: 2010.
Кутенков П.И. Ярга–свастика – знак русской народной культуры. СПб.: 2008.

Рис. 1. Праздничный девичий костюм. Архангельская губерния. Село Нёнокса. Вторая половина ХIХ века. Коллекция Татьяны Вальковой (г. Москва). Модель – Анастасия Журавлёва. Фотография Дмитрия Давыдова.
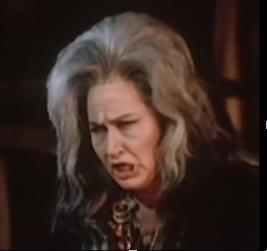
Рис. 2. Повседневные женские костюмы. Россия. Олонецкая губерния. Каргопольский уезд. Конец ХIХ – начало ХХ века. Коллекция Центра «Русские начала» и Фольклорной студии «На Поварской слободе» (г. Москва). Модели – Анна и Ольга Климовы.
Фотография Дмитрия Давыдова. 2006.

Рис. 3. Праздничный женский костюм. Россия. Олонецкая губерния. Каргопольский уезд. Конец ХVIII – начало ХIХ века. Реплика. Авторы – Татьяна Валькова, Арина Белякова. Модель – Татьяна Валькова. Фотография Аллы Соловской. 2007.

Рис. 4. Праздничный женский костюм. Россия. Олонецкая губерния. Каргопольский уезд. Конец ХIХ – начало ХХ века. Реплика. Авторы – Юлия Шипилова, Вера Гончарова. Модель – Юлия Шипилова. Фотография Аллы Соловской. 2009.

Рис. 5. Праздничный девичий костюм. Город Галич. Начало ХIХ века. Реплика.
Авторы – Юлия Козлова, Ольга Латушкина. Модель – Юлия Козлова.
Фотография Аллы Соловской. 2007.

Рис. 6. Праздничный женский костюм. Россия. Костромская губерния. Город Галич.
Конец ХVIII – начало ХIХ века. Реплика. Автор и модель – Екатерина Черноок.
Фотография Аллы Соловской. 2007.
Примечания:
[1] Филарет, митрополит Московский и Коломенский, святитель. 13. Слово в неделю третью по Пятидесятнице. //Слова и речи. Т. 1. М., 1873. Репринт. С. 108, 109.
[2] Толковая Библия или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. 1.Бытие–Притчи Соломона. Петербург. 1904–1907. Стр.25.
[3] Климент Александрийский. Педагог. Кн. 2. Гл. 10. С. 238-239.
[4] Св. Иоанн Златоуст. Т. 11. Ч. 2. С. 673.
[5] Ефрем Сирин, преподобный. 77. Поучение падшему брату. //Творения. Часть 3. Сергиев Посад, 1897. Репринт. С. 52.
[6] Священномученик Андроник (Никольский; 1870–1918), архиепископ Пермский. Творения. Книга I. Статьи и заметки. Тверь: Булат, 2004. Стр355.
[7] Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991. С. 277.
[8] Священномученик Андроник (Никольский; 1870–1918), архиепископ Пермский. Творения. Книга I. Статьи и заметки. Тверь: Булат, 2004. Стр369.
[9] Там же. Стр359.
[10] Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991. С. 278.
[11] Священномученик Андроник (Никольский; 1870–1918), архиепископ Пермский. Творения. Книга I. Статьи и заметки. Тверь: Булат, 2004. Стр373.
[12] Калашникова Н.М. Семиотические функции народного костюма//Музей Традиции. Этничность. XX-XXI вв. Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 100–летию Рос. Этн. музея. С.-Петебург; Кишинёв, 2002. С.224.
[13] Преображенский Н.С. Баня, игрище, слушанье и шестое января // Современник. 1864. № 10. С. 499–522.
[14] Кутенков П.И. Великорусская женская сряда. СПб.: 2010. С. 8.
[15] Кутенков П.И. Ярга–свастика – знак русской народной культуры. СПб.: 2008.
[16] Кутенков П.И. Великорусская женская сряда. СПб.: 2010. С.5.
[17] Священномученик Андроник (Никольский; 1870–1918), архиепископ Пермский. Творения. Книга I. Статьи и заметки. Тверь: Булат, 2004. С. 401, 402.
/ Мнение автора может не совпадать с позицией редакции /

